Without Prejudice
Проговори, что внутри
События не берутся просто так, из ниоткуда. У каждого события всегда есть предыстория.
Да, мы не можем охватить все и вместить это внутри себя. Но наши истории не уходят в никуда. Где-то в вечности есть для них место. Но пока они доберутся до вечности, случается, что они становятся для нас чем-то очень личным. На них отзывается наше сердце. Они помогают нам видеть свет и делиться этим светом друг с другом.
Каждый из вас может сейчас сделать важное дело: рассказать свою историю и сохранить ее для себя, и для других.
Мы публикуем все ваши свидетельства (анонимно), и каждый сможет прочитать о том, что чувствуют другие люди. Это еще один способ убедиться в том, что вы не одни! Мы все очень разные, и при этом наши ценности очень схожи.
Да, мы не можем охватить все и вместить это внутри себя. Но наши истории не уходят в никуда. Где-то в вечности есть для них место. Но пока они доберутся до вечности, случается, что они становятся для нас чем-то очень личным. На них отзывается наше сердце. Они помогают нам видеть свет и делиться этим светом друг с другом.
Каждый из вас может сейчас сделать важное дело: рассказать свою историю и сохранить ее для себя, и для других.
Мы публикуем все ваши свидетельства (анонимно), и каждый сможет прочитать о том, что чувствуют другие люди. Это еще один способ убедиться в том, что вы не одни! Мы все очень разные, и при этом наши ценности очень схожи.
Хотите поделиться своей историей?
Отправьте личное сообщение основательнице проекта WIthout Prejidice Полине Грундмане.
Все истории (анонимно) мы публикуем на этой странице.
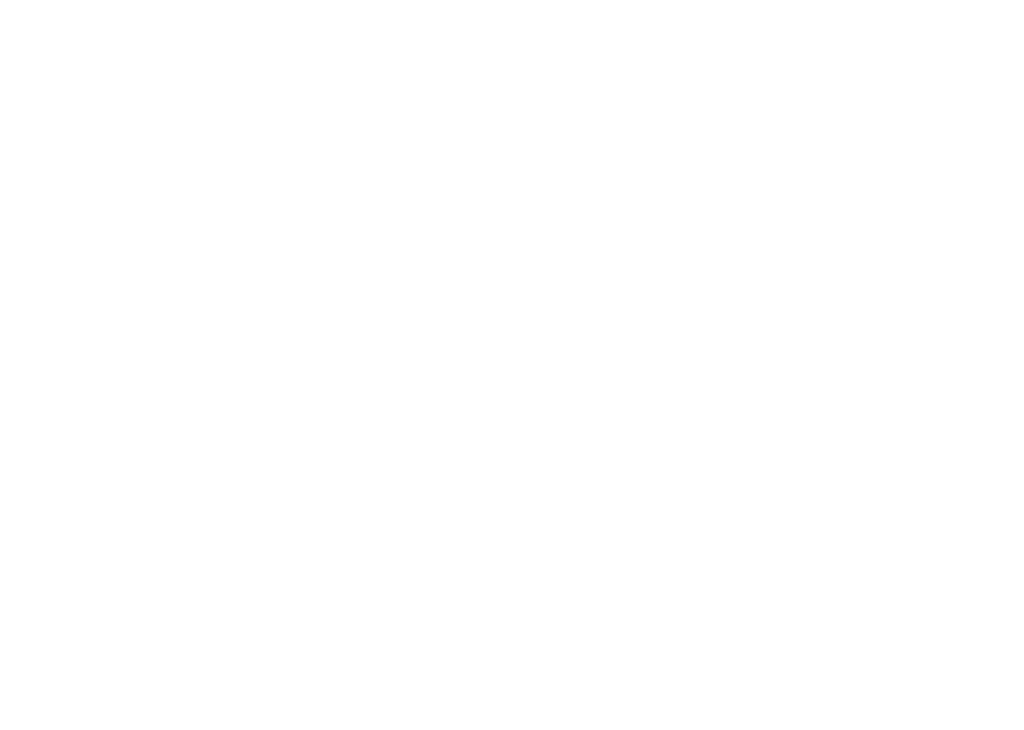
Записала специально для Without Prejudice Dingleway
Май 2024
Май 2024
Когда вы отправляете нам заявку на кризисную помощь, вы никогда не знаете, к кому из психологов проект вас направит.
А что вы бы сказали, если бы вашу консультацию, где главной темой были бы эмоции и чувства, связанные с началом войны, провел бы психолог из Украины? А что, если бы этот психолог еще и воевал в составе ВСУ?
У нас такой психолог есть. И если уж и говорить о том, кто своим примером наиболее ярко отражает название нашего проекта — «Без предубеждения» — так это он.
Воин света
На момент вторжения России в Украину я жил в Нидерландах уже около пяти лет. Мои мама и папа живут в Киеве, и я там родился. Когда Киев окружали, я понял, что не прощу себе, если с ними что-то произойдет, а я палец о палец не ударил. Я не военный, не служил в армии, у меня нет военного опыта, кроме игры в танки. Но я почувствовал, что по-другому поступить не могу.
Когда я собрался в Украину, непонятно было, как заехать туда. Вообще ничего не было понятно. Меня жена отпустила при условии, что я куплю шлем и броник. Это все, что было известно, и все, что у меня было в рюкзаке с собой. Хотя броник я купил неправильный, он был на размер меньше, каска была на размер больше, это было даже смешно.
На вокзале я давал интервью русской службе BBC. Журналистка не владела украинским языком. И на меня очень неодобрительно смотрели соседи по очереди, что фигли я на русском языке даю интервью. А я до сих пор не считаю, что это было неправильно.
Когда я собрался в Украину, непонятно было, как заехать туда. Вообще ничего не было понятно. Меня жена отпустила при условии, что я куплю шлем и броник. Это все, что было известно, и все, что у меня было в рюкзаке с собой. Хотя броник я купил неправильный, он был на размер меньше, каска была на размер больше, это было даже смешно.
На вокзале я давал интервью русской службе BBC. Журналистка не владела украинским языком. И на меня очень неодобрительно смотрели соседи по очереди, что фигли я на русском языке даю интервью. А я до сих пор не считаю, что это было неправильно.
— Сколько времени вы пробыли на войне?
— Полтора года в армии, из них на линии фронта месяцев 9−10, около того.
— Почему вы вернулись в Европу?
— Это так не работает, к сожалению. Я поехал в отпуск к семье в апреле в 2023 году. Это был первый отпуск, когда меня отпустили за границу Украины. Как-то они там наконец разобрались с законами о выезде военных. Там все было очень сложно. Как бы запрет касался только людей, которые на учете в тцк — это пункты комплектования, военкоматы. Ну, а мы, поскольку военнослужащие, под эти правила не подпадали. Но с этим разобрались только больше чем через год.
У меня была температура постоянно повышенная. Я переболел пневмонией перед отправкой на фронт, и там она снова появилась. И я уже перестал обращать на это внимание. А потом стал чувствовать, что у меня снижаются силы, что те задания, которые я выполнял довольно просто, я выполняю с большим трудом. И поскольку в детстве я болел туберкулезом, то подумал в эту сторону. Прошел обследование. Выяснилось, что это туберкулез, и я списался.
Мне нелегко от того, что те, с кем я служил, остаются на линии фронта. По началу и чувство вины было, и мысли, что мне не надо было в больницу обращаться. Понятно, что это глупая идея.
Для меня самое сложное было то, что я не видел своих детей, жену. С женой мы однажды виделись. Она гражданка России и приезжала в Киев, еще когда это было разрешено. Мне дали трехдневный отпуск. А с детьми я не виделся очень долго. Мой старший ребенок очень повзрослел за то время, пока меня не было. И я видел, что жена не справляется. Я, конечно, отсылал денег, но это не решало проблему. Воспитывать детей в одиночку, при этом работать и всё время переживать за своего мужа, это очень трудно. Слава богу, у нас был Starlink. Я выезжал два раза в сутки на задание, и отписывался ей постоянно перед заданием, после задания. Часто она не спала, ждала сообщений. Я не знаю, как она это пережила. За себя я переживал меньше. Всегда больше про то, как ей здесь оставаться одной.
У меня была температура постоянно повышенная. Я переболел пневмонией перед отправкой на фронт, и там она снова появилась. И я уже перестал обращать на это внимание. А потом стал чувствовать, что у меня снижаются силы, что те задания, которые я выполнял довольно просто, я выполняю с большим трудом. И поскольку в детстве я болел туберкулезом, то подумал в эту сторону. Прошел обследование. Выяснилось, что это туберкулез, и я списался.
Мне нелегко от того, что те, с кем я служил, остаются на линии фронта. По началу и чувство вины было, и мысли, что мне не надо было в больницу обращаться. Понятно, что это глупая идея.
Для меня самое сложное было то, что я не видел своих детей, жену. С женой мы однажды виделись. Она гражданка России и приезжала в Киев, еще когда это было разрешено. Мне дали трехдневный отпуск. А с детьми я не виделся очень долго. Мой старший ребенок очень повзрослел за то время, пока меня не было. И я видел, что жена не справляется. Я, конечно, отсылал денег, но это не решало проблему. Воспитывать детей в одиночку, при этом работать и всё время переживать за своего мужа, это очень трудно. Слава богу, у нас был Starlink. Я выезжал два раза в сутки на задание, и отписывался ей постоянно перед заданием, после задания. Часто она не спала, ждала сообщений. Я не знаю, как она это пережила. За себя я переживал меньше. Всегда больше про то, как ей здесь оставаться одной.
— Как случилось, что вы решили помогать людям в России?
— Я не могу сказать, что это было мое решение помогать специально людям, которые находятся в России. Просто у меня было четкое понимание, что я вернусь в профессию. Я психотерапевт. Я потратил восемь лет на обучение. И когда мы приехали в Нидерланды, я очень мало практиковал. Потому что как-то к онлайну еще люди не привыкли, да и сам я относился скептически. Время от времени у меня появлялись онлайн клиенты, и русскоязычные, и украиноязычные.
Я зарабатывал по-всякому здесь. Работал на заводе, в ковид был курьером, учил язык и не очень хорошо понимал, что я буду делать. А на войне очень многое меняется в смысле ценностей, приоритетов, и я начал жизнь ценить по-другому, жизнь свою и окружающих меня людей.
Мы с женой решили, что я возвращаюсь в профессию. У меня было тяжелое лечение от туберкулеза с побочными всякими штуками. У меня были жуткие мигрени, две контузии на фронте. И вообще был мало работоспособен, честно сказать. А к концу января, как раз когда я закончил лечение, появилось предложение из проекта Without Prejudice. И я сказал давайте. Мне говорили, что клиентами могут быть украинские беженцы и граждане РФ.
Я зарабатывал по-всякому здесь. Работал на заводе, в ковид был курьером, учил язык и не очень хорошо понимал, что я буду делать. А на войне очень многое меняется в смысле ценностей, приоритетов, и я начал жизнь ценить по-другому, жизнь свою и окружающих меня людей.
Мы с женой решили, что я возвращаюсь в профессию. У меня было тяжелое лечение от туберкулеза с побочными всякими штуками. У меня были жуткие мигрени, две контузии на фронте. И вообще был мало работоспособен, честно сказать. А к концу января, как раз когда я закончил лечение, появилось предложение из проекта Without Prejudice. И я сказал давайте. Мне говорили, что клиентами могут быть украинские беженцы и граждане РФ.
Наверное важно сказать, что я никогда не делил людей по цвету паспорта. У меня ровно одна половина семьи граждане РФ, а другая половина — граждане Украины. Глупо было бы, имея такую ситуацию, разделять людей по цвету паспорта. Из всех моих клиентов в проекте, — а их было больше двадцати пяти, с кем удалось договориться и провести минимум одну консультацию, — граждан Украины была одна девушка. То есть, в основном это граждане России.
— Не кажется ли вам, когда вы оказываете помощь людям из России, что их проблемы не настолько большие, какими они их видят для себя?
— Вы имеете в виду в сравнении с украинцами? Совсем так не думаю. Во-первых, это чисто профессиональная штука, и мне кажется, что все то, что мешает клиенту жить счастливо, продуктивно и полноценно, в зависимости от того, что человек в это вкладывает, — это все очень важно, даже если это тревоги и страхи, которые не имеют отношения к реальности. Для меня это важно, потому что это реальность клиента, это все равно на него влияет. Плюс я очень сочувствую людям в России, которые сталкиваются с непринятием в разных проявлениях, будь то квир-сообщества, или политический активизм, или просто люди, которые не согласны с мнением властей.
Я прожил в России 14 лет, около шести лет в Питере, всё остальное время в Москве. В Крыму часто бывал. Я хорошо понимаю, что там происходит. В общем, если коротко, то нет, мне не кажется, что их проблемы менее значимы. По ним не прилетают бомбы снаружи, но за ними приходят изнутри.
Я прожил в России 14 лет, около шести лет в Питере, всё остальное время в Москве. В Крыму часто бывал. Я хорошо понимаю, что там происходит. В общем, если коротко, то нет, мне не кажется, что их проблемы менее значимы. По ним не прилетают бомбы снаружи, но за ними приходят изнутри.
— Вы чувствовали разницу между тем, что в России называли демократией, свободой и тем, как это было в Украине? Разница ощущалась?
— Да, ощущалась. Начиная с экономического кризиса 2008 года, разница была очень сильная. Я помню моё первое впечатление: по телеку крутили «Пающие трусы», их песни это такая острая политическая сатира. И я прям такой: «Ого! а так можно было?!» Потому что их показывали по какому-то центральному музыкальному каналу. В России такое представить невозможно было.
— Когда вы начали ощущать, что в России происходит что-то не то? В чем это проявлялось?
— Я это, конечно, запомнил. Первый Майдан украинский для меня был таким ключевым переломным событием. И вся эта история с НТВ, когда в России пропали независимые СМИ. Ну вы понимаете, о чем я.
— Сейчас часто списывают ответственность за происходящее на то, что люди подвержены z-пропаганде, что они как будто под гипнозом, как заколдованные. А в те годы это уже ощущалось?
— Я думаю, что фундамент этого зародился в совке. Я воспринимаю Советский Союз как тюрьму народов, потому что ничего не связывает, скажем, латыша с киргизом. Вообще непонятно, почему они в одно государство входят.
У моего бати, у украинца, бывало, проскакивали такие шовинистские шуточки по поводу молдаван или белорусов. Он любитель был. Но если у него это проскакивало, то в России это прям чувствовалось.
Я старался говорить абсолютно без акцента. Я помню, что меня выдавала буква «я» в слове «пятнадцать». И какое-то еще у меня слово было, по которому человек внимательный мог меня идентифицировать. Хотя я учился в русской школе и у меня был хороший русский язык. Но вот это отношение, не знаю, всегда наблюдал какие-то безобидные шутки там на тему сала. Короче, какая-то пыжня. Никто не придавал этому особого значения.
Но мне было дискомфортно в России. И я очень долго привыкал к Москве, и не чувствовал там себя дома. Даже со своими друзьями, одногруппниками. Мне как будто приходилось наступать на горло своей песне. Ничего страшного не было, люди более-менее образованные. Но когда речь заходила о национальности, то все-таки шовинизм у многих наблюдался. Очень мало людей были лишены этого качества. Невозможно было бы нацепить пропаганду на стерильных людей. Должны были быть предпосылки. Я вижу предпосылки в этом.
У моего бати, у украинца, бывало, проскакивали такие шовинистские шуточки по поводу молдаван или белорусов. Он любитель был. Но если у него это проскакивало, то в России это прям чувствовалось.
Я старался говорить абсолютно без акцента. Я помню, что меня выдавала буква «я» в слове «пятнадцать». И какое-то еще у меня слово было, по которому человек внимательный мог меня идентифицировать. Хотя я учился в русской школе и у меня был хороший русский язык. Но вот это отношение, не знаю, всегда наблюдал какие-то безобидные шутки там на тему сала. Короче, какая-то пыжня. Никто не придавал этому особого значения.
Но мне было дискомфортно в России. И я очень долго привыкал к Москве, и не чувствовал там себя дома. Даже со своими друзьями, одногруппниками. Мне как будто приходилось наступать на горло своей песне. Ничего страшного не было, люди более-менее образованные. Но когда речь заходила о национальности, то все-таки шовинизм у многих наблюдался. Очень мало людей были лишены этого качества. Невозможно было бы нацепить пропаганду на стерильных людей. Должны были быть предпосылки. Я вижу предпосылки в этом.
— Ваши друзья в Украине знают, что вы оказываете психологическую помощь русским? Как они на это реагируют?
— Это довольно сложная ситуация. Мои фронтовые друзья — мы друг друга называем побратимы — вот они нормально относятся. Мой бат по большей части из киевлян состоял. И Киев до вторжения был, в основном, русскоязычным городом. Сейчас ситуация поменялась, но так было. И мы практически все разговаривали на русском языке, кроме двоих или троих людей. Вот с этой стороны все нормально. Но я слышу от своего психотерапевта, что кто-то в психотерапевтическом профессиональном сообществе, наверное бы не понял. Я не сталкивался с таким, но я думаю, что такая история есть.
Я одну очень важную штуку для себя обнаружил. Где-то через месяц работы в проекте я понял, что сам лечусь об этих людей, о своих клиентов. Я гештальт-терапевт по основному образованию, а мы используем чувства и тело как основной инструмент терапии. Мы опираемся на свои чувства как на диагностический инструмент. Психотерапия для меня это не то место, где я могу как-то отморозиться. Мне, наоборот, приходится максимально прислушиваться к своим чувствам, быть внимательным и следить за ними, чтобы нормально работать.
Я не могу сказать, что у меня было примитивное или какое-то плоское отношение к людям с русским паспортом. Но оно у меня стало шире, более объемным, и появилось больше сочувствия в процессе работы. И это стало полезным. У меня не было такого мотива, когда я шел работать. Мне просто важно было попробовать помочь. Но эта работа имеет терапевтический эффект и для меня, как выяснилось. Потому что полтора года русские для меня были те, кто на той стороне фронта. И я не могу сказать, что у меня появилась какая-то такая история, что я ненавижу всех русских. Но к людям в военной российской форме у меня правда появилась ненависть.
На фронте я сначала попал в медподразделение. Когда освобождались территории Киевской и Черниговской областей, мне пришлось насмотреться на гражданских, которых пытали. Я видел деда, которому молотками разбили руку от кисти до плеча. Превратили руку просто в фарш, кость не прощупывалась. Непонятно, как он вообще выжил, потому что это край краш-синдрома. У этого деда они хотели узнать, кто служил в украинской армии. Собственно, это не такая уж секретная информация, чтобы так стараться. Но казалось, что они прям получали от этого удовольствие. Это одна ситуация, а их было много.
Вот эти события, когда страдали гражданские, и когда это приходилось наблюдать мне, они почему-то оставили самый большой травмирующий след. Ну, то есть там же много смертей. Тела русских солдат, украинских солдат. Как будто бы я был готов к тому, что если человек надел форму, он может умереть. Но гражданские и животные, которые страдали от военных действий, от пыток на самом деле, — к этому я не был готов.
Все дома с надписью «ДЕТИ» были расстреляны из бэтээров и танков при отходе. Все. Не было ни одних ворот, или ни одной двери, на которых не было бы написано «ДЕТИ» и которые не были бы расстреляны, на которых не было бы никаких следов. У меня это не помещалось в голове.
Я одну очень важную штуку для себя обнаружил. Где-то через месяц работы в проекте я понял, что сам лечусь об этих людей, о своих клиентов. Я гештальт-терапевт по основному образованию, а мы используем чувства и тело как основной инструмент терапии. Мы опираемся на свои чувства как на диагностический инструмент. Психотерапия для меня это не то место, где я могу как-то отморозиться. Мне, наоборот, приходится максимально прислушиваться к своим чувствам, быть внимательным и следить за ними, чтобы нормально работать.
Я не могу сказать, что у меня было примитивное или какое-то плоское отношение к людям с русским паспортом. Но оно у меня стало шире, более объемным, и появилось больше сочувствия в процессе работы. И это стало полезным. У меня не было такого мотива, когда я шел работать. Мне просто важно было попробовать помочь. Но эта работа имеет терапевтический эффект и для меня, как выяснилось. Потому что полтора года русские для меня были те, кто на той стороне фронта. И я не могу сказать, что у меня появилась какая-то такая история, что я ненавижу всех русских. Но к людям в военной российской форме у меня правда появилась ненависть.
На фронте я сначала попал в медподразделение. Когда освобождались территории Киевской и Черниговской областей, мне пришлось насмотреться на гражданских, которых пытали. Я видел деда, которому молотками разбили руку от кисти до плеча. Превратили руку просто в фарш, кость не прощупывалась. Непонятно, как он вообще выжил, потому что это край краш-синдрома. У этого деда они хотели узнать, кто служил в украинской армии. Собственно, это не такая уж секретная информация, чтобы так стараться. Но казалось, что они прям получали от этого удовольствие. Это одна ситуация, а их было много.
Вот эти события, когда страдали гражданские, и когда это приходилось наблюдать мне, они почему-то оставили самый большой травмирующий след. Ну, то есть там же много смертей. Тела русских солдат, украинских солдат. Как будто бы я был готов к тому, что если человек надел форму, он может умереть. Но гражданские и животные, которые страдали от военных действий, от пыток на самом деле, — к этому я не был готов.
Все дома с надписью «ДЕТИ» были расстреляны из бэтээров и танков при отходе. Все. Не было ни одних ворот, или ни одной двери, на которых не было бы написано «ДЕТИ» и которые не были бы расстреляны, на которых не было бы никаких следов. У меня это не помещалось в голове.
— У многих складывается впечатление о тех, кто творит зверства с гражданскими, что они входят в какое-то измененное состояние сознания, или под какими-то препаратами, они перестают быть людьми и будто демонами становятся. Почему они это делают?
— Я не уверен, правильно ли так думать, или нет. Я в своей профессии привык не делить на правильно и неправильно. С одной стороны, если кто-то так думает, у него на то есть причина. Достоверно же известно, что пытками занимаются фээсбэшники при помощи десантников и других специальных войск. А вот под наркотиками очень вряд ли. Измененное состояние сознания на войне — это некая норма. Человек перегруппировывается, и нужно принять несколько специальных проблем. Первая из проблем это то, что ты можешь умереть, и нужно с этой мыслью как-то познакомиться, и быть эффективным, несмотря на этот факт. Потому что задача номер один — это выполнить задание. Из нее следует задача номер два — остаться живым.
Довольно простые схемы и штуки. Но принимать их стоит большого труда. Можно это делать экологично, а можно это делать разными другими способами.
Я думаю, что если человек слаще морковки в своей жизни ничего не пробовал, если у него не было опыта каких-то близких отношений, если он не любил никогда никого и его не любили в детстве, тогда история с подчинением, иерархией, когда всё понятно, когда действия важнее, чем мотивы, это очень сильно захватывает, это само собой является наркотиком. В армии употребляют наркотики и с той, и с другой стороны, я не собираюсь делать вид, что это не так. Но, во-первых, это не приветствуется. Я так понимаю, что и с российской стороны тоже. Это не помогает.
Я думаю, что у этих людей была такая жизнь. Они выросли такие. Армия взяла те вещи, которые для себя считает ресурсными и усиливает их одобрением и принятием таких штук. А у чекистов, мне кажется, ничего святого никогда не было вообще, с самого начала. Там удивляться нечего. Не пытайтесь мерить этих людей по себе.
Довольно простые схемы и штуки. Но принимать их стоит большого труда. Можно это делать экологично, а можно это делать разными другими способами.
Я думаю, что если человек слаще морковки в своей жизни ничего не пробовал, если у него не было опыта каких-то близких отношений, если он не любил никогда никого и его не любили в детстве, тогда история с подчинением, иерархией, когда всё понятно, когда действия важнее, чем мотивы, это очень сильно захватывает, это само собой является наркотиком. В армии употребляют наркотики и с той, и с другой стороны, я не собираюсь делать вид, что это не так. Но, во-первых, это не приветствуется. Я так понимаю, что и с российской стороны тоже. Это не помогает.
Я думаю, что у этих людей была такая жизнь. Они выросли такие. Армия взяла те вещи, которые для себя считает ресурсными и усиливает их одобрением и принятием таких штук. А у чекистов, мне кажется, ничего святого никогда не было вообще, с самого начала. Там удивляться нечего. Не пытайтесь мерить этих людей по себе.
Знаете, чем отличается психолог от не-психолога, от нормального человека? Психолог точно знает, что все люди разные. Точно знает, он не слышал эту фразу. Он не книжки прочел, он с этим сталкивается в своей работе. И это и есть объяснение — все люди разные.
Вы не померите по себе тех людей, которые могут запытать ребенка, деда, бабушку изнасиловать. Или еще что-нибудь такое сделать. У меня тоже в башке не помещается, это не может поместиться в голове нормального человека. И не нужно, самое главное не нужно к себе в голову это впихивать. Потому что это не нормально. Как у них это в голове помещается, вы никогда не поймете. Единственный способ понять — это стать таким же человеком. Но зачем вам это нужно? Мне это не нужно точно.
Вы не померите по себе тех людей, которые могут запытать ребенка, деда, бабушку изнасиловать. Или еще что-нибудь такое сделать. У меня тоже в башке не помещается, это не может поместиться в голове нормального человека. И не нужно, самое главное не нужно к себе в голову это впихивать. Потому что это не нормально. Как у них это в голове помещается, вы никогда не поймете. Единственный способ понять — это стать таким же человеком. Но зачем вам это нужно? Мне это не нужно точно.
— Сейчас много говорят о русских, которые вернутся с войны, и как нам всем будет страшно жить среди них. Когда вернутся украинские воины, что ждет их?
— Между ними большая разница. Здесь две принципиальные вещи. Украинские солдаты — они защитники, и со стороны общества у них есть сильная поддержка. Понятно, что ПТСР — он везде ПТСР. И проблема с реабилитацией повальная, но в Украине в этом процессе задействовано гражданское общество, включен весь народ. Так что вместе с государственными центрами в это вовлечены волонтеры. Я мало общался с российскими военными, но у них очень сильно порушены смыслы. Это очень сильно влияет на мораль, на самосознание. В этом отношении у украинских солдатов мораль остается сохранной.
— Когда к вам обращаются за помощью русские, была ли необходимость сказать им, что вы украинец и что вы воевали?
— Я почти всегда это говорю и без необходимости. Я уверен, что такие вещи лучше прояснять на том берегу, пока мы не начали работать. Как правило люди говорят, что нет проблем с этим. Кто-то говорит, что относится уважительно.
Был один казус. У мальчишки отвисла челюсть. У него она так медленно-медленно отвисала, пока я ему это всё рассказывал. Молодой парень совсем. Я уже даже точно не помню, чего он испугался. Он был в таком постоянном состоянии тревоги из-за призыва. Он служил в армии, у него есть воинская специальность, и его будут призывать. И он мне обо всем этом рассказал. Я говорю, да, кстати, слушай, тут есть такое дело. Я служил в ВСУ и не может ли это создать проблему? Он такой, конечно, говорит, может создать проблему! Но у него испуг был не по этому поводу. Он какую-то подставу, видимо, увидел в этом или что-то такое. Ну, что за ним, как потенциальным воином РФ тут охотятся из СБУ. Не знаю, что он там надумал. Но в общем было забавно.
Был один казус. У мальчишки отвисла челюсть. У него она так медленно-медленно отвисала, пока я ему это всё рассказывал. Молодой парень совсем. Я уже даже точно не помню, чего он испугался. Он был в таком постоянном состоянии тревоги из-за призыва. Он служил в армии, у него есть воинская специальность, и его будут призывать. И он мне обо всем этом рассказал. Я говорю, да, кстати, слушай, тут есть такое дело. Я служил в ВСУ и не может ли это создать проблему? Он такой, конечно, говорит, может создать проблему! Но у него испуг был не по этому поводу. Он какую-то подставу, видимо, увидел в этом или что-то такое. Ну, что за ним, как потенциальным воином РФ тут охотятся из СБУ. Не знаю, что он там надумал. Но в общем было забавно.
— Он больше не приходил?
— Да нет, мы с ним работали довольно долго. Пять сессий мы с ним провели. Это много. Все было хорошо. Мы прояснили, что я не человек, который за ним охотится, что просто мне важно сообщить ему об этом для того, чтобы у меня не было камня за пазухой. Всегда проще работать с клиентами, если ничего не скрываешь. И если это не психиатрический случай, то лучше быть откровенным.
Я думаю, могут быть кейсы, где это будет проблемой. Если, скажем, какие-то родственники служат. Но это я фантазирую, я с таким не сталкивался. Половина из тех, кто был, ну как бы им пофигу. Вот именно в такой формулировке, как ни странно. В той или иной степени. Главное, чтобы им помогли.
Я думаю, могут быть кейсы, где это будет проблемой. Если, скажем, какие-то родственники служат. Но это я фантазирую, я с таким не сталкивался. Половина из тех, кто был, ну как бы им пофигу. Вот именно в такой формулировке, как ни странно. В той или иной степени. Главное, чтобы им помогли.
— Разве в этом нет потребительского отношения? То есть люди из напавшей страны приходят за помощью к тому, кто сам пострадал от нападения их государства, и при этом им пофигу, кто он? Разве это не про то же самое — про нежелание брать на себя ответственность за происходящее в стране?
— Это всё-таки про разные типы людей. Среди моих клиентов было много тех, кто сам вложил свою лепту в сопротивление режиму: художники, активисты. И только два случая, когда они не ассоциировали себя со страной.
— Мы знаем истории, что в Украине есть те, кто не хотят идти на войну и платят деньги, чтобы выехать из страны. Вы приехали в самое пекло из безопасной страны. Как вы относитесь к людям, которые этого избегают и боятся этого?
— Мне сложно понять. Я не могу сказать, что я их как-то осуждаю. У меня есть, наверное, какая-то брезгливость. Ну, так, честно говоря. Я просто очень сочувствую людям, которые на фронте уже больше, чем 2 года. А некоторые дольше.
Там все очень устали. Я не мог представить, что человек может так долго находиться в таких условиях. И даже не то, чтобы живым оставаться, но и дееспособным. Очень трудно это описать. Я всегда смотрел на бездомных с сочувствием. Но жизнь бездомного в разы легче, чем жизнь пехотинца в окопе. И, конечно, я больше сочувствую людям, которые в армии, чем людям, которые не в армии. И мне кажется справедливым, чтобы эту ношу на себя взяли по возможности все.
При этом, конечно же, я понимаю, что бывают разные в жизни ситуации. Не всем хватает духу. И даже у нас, где большинство были добровольцы, у нас были люди, которые пугались того, что происходило. В основном артобстрелов. Есть такая штука, что специфический боеприпас вызывает вот этот синдром, который связан со страхом, с испугом точнее даже. Такие люди, как правило, находились в блиндаже. Они заряжали рожки и больше ничего не могли делать во время обстрела. Их реально колотило просто.
Я это к тому рассказываю, что я, конечно же, понимаю, что не все могут это делать, но мне скорее трудно было другое. Когда приезжаешь в отпуск в какой-то город, наблюдать за парнями, которые ходят в спортзал, они физически хорошо развитые. Помню, как приехал в Киев, а два парня обсуждали джинсы на платформе метро. Мне было очень странно. Я даже не то, чтобы с осуждением на это посмотрел, но это было настолько не похоже на мой мир, в котором я жил. В общем, очень-очень трудно описать мое отношение.
Я больше возлагаю ответственность на государство в этом смысле. И я считаю, что мое государство профукало свой самый основной ресурс. Они запороли все, что можно было запороть в смысле мобилизации. Совершили очень много ошибок. В большей степени они отвечают за это, а не люди, которые платят бабки для того, чтобы уехать, или переплывают Тису, или переходят границу пешком. Как-то так, наверное.
Там все очень устали. Я не мог представить, что человек может так долго находиться в таких условиях. И даже не то, чтобы живым оставаться, но и дееспособным. Очень трудно это описать. Я всегда смотрел на бездомных с сочувствием. Но жизнь бездомного в разы легче, чем жизнь пехотинца в окопе. И, конечно, я больше сочувствую людям, которые в армии, чем людям, которые не в армии. И мне кажется справедливым, чтобы эту ношу на себя взяли по возможности все.
При этом, конечно же, я понимаю, что бывают разные в жизни ситуации. Не всем хватает духу. И даже у нас, где большинство были добровольцы, у нас были люди, которые пугались того, что происходило. В основном артобстрелов. Есть такая штука, что специфический боеприпас вызывает вот этот синдром, который связан со страхом, с испугом точнее даже. Такие люди, как правило, находились в блиндаже. Они заряжали рожки и больше ничего не могли делать во время обстрела. Их реально колотило просто.
Я это к тому рассказываю, что я, конечно же, понимаю, что не все могут это делать, но мне скорее трудно было другое. Когда приезжаешь в отпуск в какой-то город, наблюдать за парнями, которые ходят в спортзал, они физически хорошо развитые. Помню, как приехал в Киев, а два парня обсуждали джинсы на платформе метро. Мне было очень странно. Я даже не то, чтобы с осуждением на это посмотрел, но это было настолько не похоже на мой мир, в котором я жил. В общем, очень-очень трудно описать мое отношение.
Я больше возлагаю ответственность на государство в этом смысле. И я считаю, что мое государство профукало свой самый основной ресурс. Они запороли все, что можно было запороть в смысле мобилизации. Совершили очень много ошибок. В большей степени они отвечают за это, а не люди, которые платят бабки для того, чтобы уехать, или переплывают Тису, или переходят границу пешком. Как-то так, наверное.
— Вы сказали, что у вас четко есть разделение между русскими в военной форме и обычными людьми. Есть ли такие украинцы, кто прошли войну, либо сейчас до сих пор на войне, которые ко всем русским относятся агрессивно и не делят их на хороших и плохих?
— Наверняка есть, естественно.
— С психологической точки зрения, как можно объяснить, что у человека происходит слияние хороших и плохих людей, всех в одну категорию? Это индивидуальные особенности или общие психологические механизмы?
— Я думаю, что людям свойственно упрощать вещи. И есть не такой уж большой процент людей, которые склонны к критике, анализу, тем более к самоанализу. Тем более к самоанализу в том месте, где приходится признавать неприятную правду о себе. Это с одной стороны. А с другой стороны, это во многом нормальная реакция. Потому что если на тебя летят бомбы и ракеты, то ты как-то должен реагировать. И зачастую это не вопрос выбора.
Я наблюдал ПТСР у людей, которые смотрели телевизор или YouTube в начале войны. Они не принимали участие в боевых действиях и не были под обстрелами. Но у них был такой нормальный, качественный ПТСР. Так что это по-разному у всех проявляется. Сложно сказать, какой процент таких людей. Заходишь в Твиттер, и кажется, что их 100%. Но это далеко не так. Соцсети токсичны по своей сути. На такие вещи я бы не опирался.
Из того, что я видел лично, понятно, что это не репрезентативно, но таких людей, наверное, меньше чем 5%, которые просто всех под одну гребенку метут. Хотя такая тема, как ненависть, она да, живет в украинском народе сейчас. И это абсолютно нормально, конечно.
Я наблюдал ПТСР у людей, которые смотрели телевизор или YouTube в начале войны. Они не принимали участие в боевых действиях и не были под обстрелами. Но у них был такой нормальный, качественный ПТСР. Так что это по-разному у всех проявляется. Сложно сказать, какой процент таких людей. Заходишь в Твиттер, и кажется, что их 100%. Но это далеко не так. Соцсети токсичны по своей сути. На такие вещи я бы не опирался.
Из того, что я видел лично, понятно, что это не репрезентативно, но таких людей, наверное, меньше чем 5%, которые просто всех под одну гребенку метут. Хотя такая тема, как ненависть, она да, живет в украинском народе сейчас. И это абсолютно нормально, конечно.
— Почему люди реагируют ненавистью? Почему это нормальная реакция?
— Практически у всех украинцев есть либо знакомые, либо родственники, либо члены семьи, которые погибли или были ранены. Поскольку люди в состоянии горя не склонны к тому, чтобы видеть вещи во всей их полноте, свое горе они превращают в ненависть. Это то, что помогает им справиться с этим горем, помогает не рассыпаться на части. И да, у многих из них генерализована ненависть ко всему русскому, к русским людям, к русской литературе, к русским солдатам, к русскому правительству, ко всему, что начинается на слово «русское». Это не все люди, мне важно это отметить. Но таких много, и это нормальная психологическая реакция.
— Вам встречалось мнение «Зачем помогать русским?»
— Не, не встречалось. Мне этот вопрос в голову не приходил, и ни от кого другого я не слышал. Я не то чтобы супер-общительный человек, у меня нет большого количества людей, с которыми я поддерживаю постоянно дружеские отношения. Может быть человек 10−15 из круга моих друзей. Некоторые из них живут в Крыму, некоторые из них живут в Европе, около половины живет в Украине. Они вменяемые люди, поэтому я с такими штуками не сталкивался. Даже в госпитале, где я общался с военными в основном, я такого не наблюдал. Даже среди людей, которые вернулись после русского плена. А это отдельная история абсолютно, я не буду всего рассказывать, дабы вас не шокировать. Но все, что можно представить, и даже больше — это все с ними происходило. Но даже среди этих людей я такого не видел, что «нужно всех русских уничтожить».
— Вы представляли себе, как закончится эта война?
— Представлял много раз, и ошибочно представлял. Какие-то мои представления об этом сейчас, они тоже ошибочные, потому что никто не знает будущего. Но сейчас мне кажется, что это очень надолго.
— Очень надолго?
— Да. Война может закончиться чем угодно. Гражданской войной в России, смертью Путина. Очень маловероятно, но может быть и такое — победой Украины, выходом на границы 91-го года. Но не при нынешних обстоятельствах точно. Как-то это точно закончится когда-нибудь, но через 10 лет или через 100 лет, я затрудняюсь сказать.
Если это закончится лет через 10, то это не может закончиться без последствий в России. Не будет так, что мы тут повоевали, угробили сколько, я уже даже не помню какие потери. Сказать после этого, что все цели СВО достигнуты, мы пошли домой — такого не будет. И закончится ли она после выхода на границы 91-го года? Я думаю нет, война не закончится.
Если это закончится лет через 10, то это не может закончиться без последствий в России. Не будет так, что мы тут повоевали, угробили сколько, я уже даже не помню какие потери. Сказать после этого, что все цели СВО достигнуты, мы пошли домой — такого не будет. И закончится ли она после выхода на границы 91-го года? Я думаю нет, война не закончится.
— Есть ли вероятность, что люди в России оставят свой шовинизм, который начался очень давно, очистятся как-то от него и поменяют свое отношение?
— Ни одного шанса не вижу. Если смотреть на Германию, а я все время пытаюсь не то чтобы историческую параллель провести, но понять, почему же немцы так поменялись. Германия была оккупирована. Представить себе оккупированную Россию довольно трудно. Без признания всех преступлений, — ведь не было суда после окончания Второй мировой войны, не было суда над Советским Союзом, — мне трудно это представить. А без подведения каких-то итогов, наказания виновных и всего остального, я не вижу предпосылок для изменения. Должна быть какая-то работа, какие-то выводы должны быть сделаны. А предпосылок исторических для этих выводов пока не видно.
— Что будет, когда все те люди, которым пропаганда заколдовала мозги, откроют глаза, и они столкнутся с правдой? Какое воздействие это окажет на их психику, когда они увидят, что все совсем иначе, чем-то, что им рассказывали и во что они верили? Что с ними случится?
— Ну, во-первых, я думаю, что это невозможно, то, что вы описываете. Это похоже на фею, которая взмахнет волшебной палочкой. Нет, так точно не будет. Меня очень впечатлила история Германии. Когда есть было нечего, то для того, чтобы получить талоны на еду, нужно было перезахоронить какое-то количество мертвых людей, которые пролежали в земле уже довольно долго. Или что-нибудь еще такое сделать.
И мне кажется, должен быть или очень-очень-очень сильный личный мотив для того, чтобы человек увидел правду, или очень серьезное принуждение.
И мне кажется, должен быть или очень-очень-очень сильный личный мотив для того, чтобы человек увидел правду, или очень серьезное принуждение.
Никто из людей не любит признавать неприятные вещи о себе. Ведь если мы на улице возьмем десяток людей и спросим у них, как ты думаешь, ты хороший человек? Он скажет, я может и не ангел, но я вот добрый, я вот щедрый.
Это неправда о людях вообще. Потому что мы бываем жадными, а бываем щедрыми. Бываем злыми, а бываем добрыми. Это все живет в нас.
Это неправда о людях вообще. Потому что мы бываем жадными, а бываем щедрыми. Бываем злыми, а бываем добрыми. Это все живет в нас.
Людям удобно думать, что они как-то лучше, чем среднестатистический человек. У кого ни спроси, как ты оцениваешь свои умственные способности? Он ответит, я может и не умный, но точно выше среднего. И такая же история с Россией. Это не колдовство. Это выбор людей. Это выбор не признавать правду о том, что происходит.
Я думаю, что этот выбор диктует страх. Людям внутри России очень страшно. И власть в этом смысле очень успешна. Эта репрессивная машина базируется на страхе. Когда нет закона, когда непонятно, какие действия могут привести к наказанию, а какие не приведут. Понятно, что все это на усмотрение человека в форме. Это не касается закона. Конституция поменялась просто потому, что одному деду это было нужно. А тогда какие выводы люди в состоянии сделать? Если Конституция так меняется, то что говорить о том, что простой смертный может попасть в тюрьму.
Я думаю, что этот выбор диктует страх. Людям внутри России очень страшно. И власть в этом смысле очень успешна. Эта репрессивная машина базируется на страхе. Когда нет закона, когда непонятно, какие действия могут привести к наказанию, а какие не приведут. Понятно, что все это на усмотрение человека в форме. Это не касается закона. Конституция поменялась просто потому, что одному деду это было нужно. А тогда какие выводы люди в состоянии сделать? Если Конституция так меняется, то что говорить о том, что простой смертный может попасть в тюрьму.
— Страх за свою жизнь и страх перед правдой — это единый страх или два разных?
— Мне кажется, страх — это вообще про безопасность и про ее отсутствие. Это страх за свою жизнь, за свою безопасность, за свою свободу. Страх диктует необходимость в конформности, необходимость принадлежности к этой идеологии. Людям кажется, что если они будут это все поддерживать, то их не тронут.
Если человек жил в страхе очень долгое время, этот страх не испарится и не выветрится никуда. Он будет сохраняться, даже если человек попадет в безопасное пространство. Точнее, если безопасность придет к нему. Потому что, если человек куда-то уезжает или что-то делает для того, чтобы получить свободу и безопасность, то он сам предпринимает для этого какие-то действия, берет на себя ответственность за это. А если представить себе какого-то среднестатистического человека в России, который вроде как не то чтобы людоед и даже симпатичный парень или девушка, и как бы он особо и не поддерживает убийства, но «нет дыма без огня», и «бомбили же Донбасс», ну и все остальное. Это же нарративы, которые помогают создавать ощущение безопасности. Ну, а с чего вдруг они должны куда-то деться?
Если человек жил в страхе очень долгое время, этот страх не испарится и не выветрится никуда. Он будет сохраняться, даже если человек попадет в безопасное пространство. Точнее, если безопасность придет к нему. Потому что, если человек куда-то уезжает или что-то делает для того, чтобы получить свободу и безопасность, то он сам предпринимает для этого какие-то действия, берет на себя ответственность за это. А если представить себе какого-то среднестатистического человека в России, который вроде как не то чтобы людоед и даже симпатичный парень или девушка, и как бы он особо и не поддерживает убийства, но «нет дыма без огня», и «бомбили же Донбасс», ну и все остальное. Это же нарративы, которые помогают создавать ощущение безопасности. Ну, а с чего вдруг они должны куда-то деться?
— Почему многие вообще не хотят знать, что были лагеря, Гулаг, и много другого страшного?
— Так им страшно потому что. Потеря идентичности — для меня как для психолога, во всяком случае, — она тождественна страху смерти. Если у меня есть какие-то свои представления о себе, то я буду за них держаться. Но конкретно я постараюсь этого не делать, потому что я знаю, что это неполезно. Мой личный опыт был довольно болезненный. Когда разрушались мои представления обо мне, мне было больно, стыдно, неприятно. Я вообще этим не занимался бы, если бы у меня не было необходимости, жил бы себе и жил.
Это сложная штука. Если говорить о том, зачем людям важно узнать разные точки зрения, обладать полнотой информации, проводить какой-то анализ информации — зачем им это нужно, то я думаю, что мы можем выяснить, что это тоже как-то связано, во-первых, с самооценкой, а во-вторых, с безопасностью. То есть, если я разбираюсь в событиях, которые происходят в мире, то мне безопасно, для меня мир предсказуем. Но этот же вывод люди делают из очень противоречивых вещей. Некоторые считают, что если не думать о сложности мира, то он тоже будет безопасен, просто потому что он предсказуем в их голове. Все мы стремимся к одному и тому же, по большому счету. Просто способы используем разные.
Это сложная штука. Если говорить о том, зачем людям важно узнать разные точки зрения, обладать полнотой информации, проводить какой-то анализ информации — зачем им это нужно, то я думаю, что мы можем выяснить, что это тоже как-то связано, во-первых, с самооценкой, а во-вторых, с безопасностью. То есть, если я разбираюсь в событиях, которые происходят в мире, то мне безопасно, для меня мир предсказуем. Но этот же вывод люди делают из очень противоречивых вещей. Некоторые считают, что если не думать о сложности мира, то он тоже будет безопасен, просто потому что он предсказуем в их голове. Все мы стремимся к одному и тому же, по большому счету. Просто способы используем разные.
— Страшно спрашивать о таком, об этом не принято говорить вслух. Но если представить, что война не закончится победой Украины, что тогда будет? Какое потрясение переживут люди, которые верят в то, что этого не может быть?
— Для меня это значительно менее важный вопрос, нежели вопрос фактического выживания этих людей. Потому что я знаю, что будет происходить на оккупированных территориях. Для меня это катастрофа, потому что будут пытки, расстрелы. И не только людей, которые воевали в украинской армии и их родственников. Но и учителей, которые преподают украинский язык и делают это с душой.
Если говорить о моральном потрясении, то у людей будет депрессия. Такая глубокая, хорошая, качественная депрессия у многих людей.
Если говорить о моральном потрясении, то у людей будет депрессия. Такая глубокая, хорошая, качественная депрессия у многих людей.
— Может ли так быть, что психика просто сломается и не выдержит этого?
— Функция психики, в том числе, защищать нас. Она сама себя защищает. И в этом смысле депрессия будет защитным механизмом. У психики есть перочинный ножик, даже целый набор инструментов, как она может справиться с такими ужасающими ситуациями. Это и психоактивные вещества, которые люди употребляют, и нежелание признавать правду, и ложная надежда, что все поменяется и будет реванш. Но это скорее такие варианты.
А вот кроме как слова депрессия, мне, наверное, ничего другого не подобрать. Но не в смысле там настроение испортится. Я не про такую депрессию говорю. А про такое состояние, где не хочется жить. Где ничего не хочется. И другие очень-очень разные вещи. Это всё повлияет и на людей, которые уехали из Украины. Если у тебя есть своя страна, и ты живешь в другой стране, а потом у тебя вдруг этого нет, я думаю, евреи их поймут. Очень по-разному воспринимается мир от этого.
На самом деле я с трудом себе представляю оккупацию всей Украины. Победу России я тоже с трудом представляю. В некотором роде то, что сейчас есть, это победа Украины, потому что Украина сдержала вторжение и не рухнула. Учитывая разность потенциалов России и Украины, можно относиться к этому как к победе.
А вот кроме как слова депрессия, мне, наверное, ничего другого не подобрать. Но не в смысле там настроение испортится. Я не про такую депрессию говорю. А про такое состояние, где не хочется жить. Где ничего не хочется. И другие очень-очень разные вещи. Это всё повлияет и на людей, которые уехали из Украины. Если у тебя есть своя страна, и ты живешь в другой стране, а потом у тебя вдруг этого нет, я думаю, евреи их поймут. Очень по-разному воспринимается мир от этого.
На самом деле я с трудом себе представляю оккупацию всей Украины. Победу России я тоже с трудом представляю. В некотором роде то, что сейчас есть, это победа Украины, потому что Украина сдержала вторжение и не рухнула. Учитывая разность потенциалов России и Украины, можно относиться к этому как к победе.
